ЧАС ПРЕКРАСНЫХ И ДОБЛЕСТНЫХ
С конца VI в. и до начала 470-х до н.э. Греция вела непрерывную борьбу с напавшей на нее огромной персидской деспотией. Впервые обособленные, соперничающие между собой греческие полисы объединились против общего врага и после трех победоносных битв – при Марафоне (490 до н.э.), Саламине (480 до н.э.) и Платеях (479 до н.э.) – одержали победу. Ранее захваченные и сильно пострадавшие города в Малой Азии и на Эгейских островах – Милет, Эфес, Клазомены, Хиос, Смирна – так никогда более и не поднялись в своей былой славе. Но Балканская Греция, организатор победы над врагом, возмужав и укрепив демократию, стала быстро набирать силы. Искусство V–IV вв. до н.э. достигло огромных высот; его назвали классическим. Новые художественные идеалы были всеобъемлющи, философичны, глубоко отражали суть человеческой жизни и бытия природного мира. Главным среди них был идеал калокагатии (греч. καλός καί άγαθός) – гармонии в людях прекрасной внешности с благородством и доблестью. Реально такой идеал продержался в историческом времени совсем недолго – какой-то час. Но он поднял весь Древний мир на совсем новый уровень духовности и, войдя в золотой фонд человечества, до сих пор не утратил силы.
Эта эпоха условно делится на три периода: ранняя классика, или строгий стиль (490/480–450 до н.э.), высокая классика (450–400 до н.э.) и поздняя классика (400–323 до н.э.).
Раннеклассическое искусство, борясь с условностью архаики, серьезно, сурово, не любит ничего лишнего. Зеркало с подставкой-кариатидой (№ 50), хотя и исполнено уже в самом конце периода, хорошо передает строгий идеал: простота одеяний, сдержанная подвижность, внутренняя целостность погруженных в себя образов.
Параллельно с такой гражданственной линией развивалась другая – лирическая, камерная. Она очевидна в работах коропластов. В Беотии, где давно любили изображать домашнюю атмосферу, появляются очаровательные фигурки животных и птиц, вполне причастных к человеческому быту. Спокойно стоящая лошадка (№ 52.1) сдержанна и серьезна, но любовь, с которой исполнены ее крепкие ножки и грива, говорит о привязанности людей к своему окружению. Волк с козленком (№ 52.2) как будто пришел из басни Эзопа – грабитель явно несет домашнее существо, беспомощное, призывающее к спасению свою мать. Такие фигурки заключают в себе скрытый жреческо-жертвенный смысл: хищник, поедая травоядное, возобновляет свою силу жизни, и это закономерный природный процесс, но мастер акцентирует и психологический аспект драмы: маленького похитили, и его нужно спасать. Бегущая собака (№ 52.4) явно позирует – оглядываясь на окружающих и оценивая обстановку. А вот собака со светильником (№ 52.3) напоминает о глубокой древности пса как существа, причастного к космотворению: светильник – вещное воплощение божества-солнца в его ночной фазе: искусственный свет загорается только после заката.
Яркое отражение раннеклассический стиль нашел в вазописи, представленной целым рядом замечательных экспонатов. Ранняя краснофигурная вазопись – величайшее явление в расписной керамике мира. Первая четверть V в. до н.э. дала Элладе в лице Афин целую плеяду блистательных рисовальщиков: поздние Евфроний и Евфимид, Дурис и мастер Брига, Берлинский мастер и Гермонакс. В Музее имеется работа позднего Дуриса – килик с двумя симпосиастами в тондо (№ 54). Великий мастер неоднократно варьировал в своих работах эту тему: он писал тщательно, детально, характеризовал среду интерьера многочисленными предметами. Наш килик, не достигая величия «Античной pietà» – как назвали роспись знаменитой работы Дуриса на чаше из Лувра, с богиней зари Эос, поднимающей с земли мертвого сына Мемнона1, – демонстрирует высоты композиционного мастерства и виртуозного рисунка. Другой килик, с танцующими силенами (№ 55), тоже очень хорош, но, судя по некоторым отклонениям в стиле, его расписывал не сам Дурис, а мастер, близкий к этому вазописцу.
Загадочен килик с юношами-симпосиастами (№ 53), которые возлежат на ложе не просто в вольной позе – они явно проделывают некие трюки, высоко забрасывая вверх одну ногу. Обнаженные – но при этом во фригийских башлыках, которые отмечены на фигурах других ранних симпосиастов (ср. № 74). Кто они и почему так изображены? Это вопрос для будущих исследователей. Судя по почерку и по тому, что известен другой килик, в Мюнхене, с похожими сценами, более свежий по стилю, наш мастер находился в сфере влияния автора мюнхенской вазы. В древности любили копировать удачные композиции, подражая их стилю, и это не считалось зазорным, напротив, расценивалось как творческий акт – познание внутренней кухни больших мастеров, то, о чем говорил А.С. Пушкин: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».
Более поздний Гермонакс, которому приписывают большое количество ваз, представлен Ноланской амфорой с изображением силенов (№ 56). Дионисийская стихия – главная тема не только раннеклассических киликов, что обусловлено их связью с винопитием, но и всех ранних греческих ваз. Спутники Диониса, силены и менады, постоянно вращаются вокруг фигуры человекобога, связанного с вином и виноградом, с проблемой смерти и ее преодоления. Шумные, экспрессивные композиции архаики в строгом стиле разрежаются, становятся выразительнее, с содержательным контекстом. Раннюю классику интересовали взаимоотношения – человека с миром, людей между собой.
К середине V в. до н.э. раннеклассический мир, с его контрастами и антитезами, гротескными проявлениями и тихой лирикой, яркий, порой почти калейдоскопический, начинает постепенно успокаиваться, становиться ясным, уравновешенным и гармоничным.
В это время греческое общество достигло некой удивительной точки равновесия. Все противоположные начала в нем стали примиряться: человек – общество, человек – мир, внешнее – внутреннее, телесное – духовное, личное – общественное, семейное – гражданственное. И в греческом театре на смену архаичному Эсхилу, громоздившему в своих трагедиях горы трупов, как напишет потом Еврипид, шел умеренный, гармоничный Софокл, получивший за свои представления наибольшее число наград среди всех греческих трагиков. В ранней классике личное отодвигалось на второй план гражданственным: тот же Эсхил в своей автоэпитафии ценил свои военные подвиги, а не трагедии. В Аттике запрещалась постановка частных надгробий – ставились памятники только на братских могилах. Ценилось все, что зримо шло во всеобщую казну.
Теперь же материальное и внешнее уравновешивается духовным и внутренним. В середине V в. до н.э., когда в Афинах стратегом был просвещенный Перикл, друг философов, художников и поэтов, все это, как на золотых весах Зевса, пришло к полной гармонии. Отстраивались святилища, под руководством Фидия был блестяще восстановлен Афинский Акрополь, вся Греция заполнялась мраморными храмами и общественными зданиями, которые украшались фресками великих живописцев и статуями выдающихся ваятелей. Это был «глубочайший внутренний расцвет Греции».
Искусство этого времени – торжественное и сдержанное, лишенное резких контрастов, но в то же время проникнутое в каждой детали человеческим смыслом. Виднейшими ваятелями того времени были еще «строгий» по духу Мирон, Фидий и Поликлет, создавший научную теорию скульптурного образа под названием «Канон». Его статуи, рассчитанные на обозрение со всех сторон по кругу – чего нет ни у Мирона, ни у Фидия, – являли собой пример воплощения в пластике идеальной гармонии.  Отработанные до совершенства в системе пропорций и взаимоотношений членов тела между собой, его образы богов, героев и людей – бесстрастны, имперсональны, возвышенны. Небольшая копия Геракла Поликлета (№ 64), по силе выражения одна из лучших в серии, помогает понять идеалы мастера. Кое-что от эпохи Фидия сохранилось и в статуе Артемиды в длинном одеянии (рис. 16), величавой и одновременно изящной.
Отработанные до совершенства в системе пропорций и взаимоотношений членов тела между собой, его образы богов, героев и людей – бесстрастны, имперсональны, возвышенны. Небольшая копия Геракла Поликлета (№ 64), по силе выражения одна из лучших в серии, помогает понять идеалы мастера. Кое-что от эпохи Фидия сохранилось и в статуе Артемиды в длинном одеянии (рис. 16), величавой и одновременно изящной.
Вазописцы высокой классики, утрачивая яркость поисков и экспериментаторский дух предшественников, идут путем скульпторов, создавая на вазах ритмические, сдержанные композиции, в которых часто варьируется тема шествия или спокойного стояния у некоего значимого объекта. Нет застылости – но есть внутренняя жизнь, психологическое переживание событий.
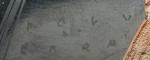 Амфора Полигнота (№ 60) – единственная подписная ваза в собрании (рис. 17) – по духу еще близка раннеклассическим образцам: на одной стороне весь ушедший в себя Ахилл, оскорбленный Агамемноном и отказавшийся на десять лет от участия в боях под Троей; с другой стороны – восходящая на своей колеснице богиня утренней зари Эос; она, огромная, застилающая все пространство, взлетает на небосвод, и это – метафорический рассвет, конец Ахиллова гнева, предстоящий выход героя на бой. Ваза Полигнота, с ее крупноформатной композицией, подает первые сигналы кризиса: вазописные картины хотят быть монументальными и величавыми, они просятся на широкие стены пинакотек и портиков – керамическая форма начинает стеснять их.
Амфора Полигнота (№ 60) – единственная подписная ваза в собрании (рис. 17) – по духу еще близка раннеклассическим образцам: на одной стороне весь ушедший в себя Ахилл, оскорбленный Агамемноном и отказавшийся на десять лет от участия в боях под Троей; с другой стороны – восходящая на своей колеснице богиня утренней зари Эос; она, огромная, застилающая все пространство, взлетает на небосвод, и это – метафорический рассвет, конец Ахиллова гнева, предстоящий выход героя на бой. Ваза Полигнота, с ее крупноформатной композицией, подает первые сигналы кризиса: вазописные картины хотят быть монументальными и величавыми, они просятся на широкие стены пинакотек и портиков – керамическая форма начинает стеснять их.
Одна из лучших ваз нашего собрания – кратер мастера Виллы Джулиа – представляет Гермеса с маленьким Дионисом (№ 58), по сторонам – нисейские нимфы-менады, которые будут воспитывать в своем райском краю младенца. Сама тема младенца-бога тоже появляется около середины V в. до н.э. Она вносит ноту душевности в торжественный высококлассический мир, а сюжет переноса дитяти из мира в мир (из смертного в бессмертный) – важнейшая тема классики, где статусы всех обитателей космоса предстают возвышенными: «Фидий людей героизировал, героев обожествил, а богов поднял на столь высокий уровень, что даже прибавил этим нечто к существующей религии»2.
Праздник, совершаемый в честь богов, – одна из главных тем искусства времени Фидия. Многие мастера, современники создававшегося парфенонского фриза, с изображением всех афинян, шествующих на праздник покровительницы города, явно и неявно пытались передать ту же атмосферу неторопливой церемониальной процессии, цель которой – контакт с божеством. На скифосе мастера Льюис (№ 57) тоже представлен новогодний праздник: за нарядно облаченным Дионисом силен торопливо несет стул с полосатой подушкой; когда Дионис воссядет на нем – это будет начало цикла; два трона-дифроса несли две афинянки на парфенонском фризе. Вспомним, что вавилонский Мардук сидел над неким колодцем целый год, и когда его одеяние требовало замены, он вставал; воды бурно изливались наружу – начинался потоп, но Мардук возвращался в выстиранном платье, опять садился, и воды уходили3. Еще один праздничный акт представлен на стамносе (№ 59) с изображением Леней или, как ныне считают многие, Антестерий. На лицевой стороне отсутствует главный объект, фигурирующий на большинстве таких ваз, – мертвый столп, обряженный как Дионис и с маской бога; женщины не просто суетятся вокруг столика, они готовят еду и питье для «чурбана» – хлеб и вино. Мертвое древо-бог воскресает, давая побеги и снизу и сверху. Антестерии справлялись в феврале-марте, это был праздник винопития, где проводились состязания, кто больше выпьет вина, причем в них участвовали и дети начиная с трехлетнего возраста; об имевшей место смерти бога напоминал обряд молчания и пития каждого за своим столиком отдельно4, о будущем воскресении – его брак с богиней-матерью, которую представляла «басилинна», супруга афинского архонта-басилевса. Роль басилинны на этих стамносах играют женщины – участницы обряда.
Еще один дионисийский сюжет представляет кратер мастера Диноса (№ 63). Показан сатирический хор, к которому, что любопытно, причастен Гермес – загадочный греческий бог, «первый умерший», который «знал путь» в преисподнюю (и обратно) и потому выступал в роли водителя душ – психопомпа. Но здесь Гермес занят приятным делом: он играет на лире, под его музыку пляшут три сатира-пана, делая «кошачьи прыжки» и затем приседая. Подскоки, тяготение к верху – тема восхождения, воскресения, ибо все, что связано с небом, в Элладе воспринималось как верховное и важнейшее. Характерно, что мастер Диноса, любивший дионисийские сюжеты, отходит от величавых картин своего учителя и современника Фидия, мастера Клеофона, в мир более легкой, непритязательной игры. Около 420 до н.э., когда в Афинах возникали первые признаки социального и политического кризиса, это была форма ухода от сложных проблем в мир фантазии.
Во времена Фидия зародился и продолжал жить до рубежа V–IV вв. до н.э. один из наиболее поэтичных жанров греческого искусства. Белофонные лекифы затрагивают самые глубокие струны человеческой души. Им посвятили вдохновенные страницы видные знатоки античного искусства, а первая лучшая книга об этих памятниках, написанная немцем Вальтером Рицлером, посвящена рано умершему Адольфу Фуртвенглеру5. Наш лекиф (№ 62) представляет сцену в некрополе: две женщины, вероятно мать и дочь, принесли дары, чтобы помянуть родственницу. Ничего не происходит, они просто стоят по сторонам памятника и смотрят друг на друга, но во всем их облике, в каждой черте столько благородства, тишины и смирения, что само созерцание композиции очищает душу. Выражение открытой скорби чуждо классическому искусству. Полустертый грунт, еле видные контуры намекают на что-то хрупкое и нежное, невидимое и непознаваемое, что переживает смерть и остается в человеке. Это – память.
Параллельно с лекифами до конца классической эпохи существовал жанр мемориальных рельефных стел. В них «горечь прощанья светла», как показывает один из лучших памятников этого рода – Надгробие афинского всадника (№ 65). Оно было создано в 80-х годах IV в. до н.э., в поздней классике. И здесь ничего не происходит: есть видимость движения умершего-всадника вместе с лошадью в иной мир – навстречу выступает живой, родственник. Все замирает на мгновение, и невидимая сеть накрывает умершего, черты его чуть приглушены, чуть неявленны, как будто образ его в глазах родственника испаряется и исчезает – или это было видение? Такие видения часто изображались на лекифах: призраки умерших выходят на призывы родных, садясь на ступени надгробий.
Поздняя классика – время затухания аттической вазописи. Последние ее достижения связаны с «керченскими пеликами», созданными специально для Боспора, где был спрос на вазы в погребальных целях. Сюжеты соотносились с местными, «гиперборейскими» темами. Такова ваза с конной амазономахией (№ 66), находящей аналогии в современной ей скульптуре. Это симптоматический знак: раньше вазопись опережала скульптуру и давала ей творческий импульс.
 Большие сосуды типа кратеров тоже исчерпывают свои силы. Так, кратер с Афродитой и Эротом (рис. 18) показывает ярусность композиции с перемежающимися фигурами, чтобы устранить ощущение прямолинейных фризов: фигуры словно шествуют в высоту по крутым горкам, их силуэты утрачивают однородность – одни остаются в красном варианте, другие, благодаря белой краске, вырываются из фона. Впечатление пестрое, но динамики нет и композиции в целом застывшие. Сюжеты вращаются вокруг женского мира, гинекея, свадеб и приготовления даров: фоны заполняются многочисленными предметами – ларцами, ветвями, калафами, музыкальными инструментами, тениями и полотенцами. Это – стагнация.
Большие сосуды типа кратеров тоже исчерпывают свои силы. Так, кратер с Афродитой и Эротом (рис. 18) показывает ярусность композиции с перемежающимися фигурами, чтобы устранить ощущение прямолинейных фризов: фигуры словно шествуют в высоту по крутым горкам, их силуэты утрачивают однородность – одни остаются в красном варианте, другие, благодаря белой краске, вырываются из фона. Впечатление пестрое, но динамики нет и композиции в целом застывшие. Сюжеты вращаются вокруг женского мира, гинекея, свадеб и приготовления даров: фоны заполняются многочисленными предметами – ларцами, ветвями, калафами, музыкальными инструментами, тениями и полотенцами. Это – стагнация.
Но продолжают создаваться стеклянные изделия (№ 72), постепенно вытесняющие из обихода керамические и придающие особую нарядность быту. Напаянные нити обогащают колорит и создают красивую рельефную поверхность; сосудики небольшие, изящных форм – алабастры и арибаллы. Их использовали не только в ритуальных целях, но и в быту. Это перспективная отрасль, за которой стоит будущее.
В поздней классике творили три великих эллинских ваятеля – лирический Пракситель, патетический Скопас и Лисипп, характер творчества которого трудно определить: мастеру приписывают 1500 статуй, судя по тому, что в его копилке, куда он бросал монету после каждой изготовленной фигуры, нашли 1500 монет. Если Скопас создал новый тип лица, искаженного страданием или экстазом, кубической формы, с провалившимися глазницами, а Пракситель уделял внимание элегическим темам отдыхающих, нежащихся в тени южного солнца богов, то Лисипп – автор нового канона фигуры с удлиненными пропорциями, в которых голова занимала не 1/7 часть тела, как у Поликлета (его мужской тип в Риме был прозван homo quadratus), a 1/8. Он избегал круговых обзоров, хотя строил их с безупречным мастерством; его статуи можно назвать «фасадными» – перед телом часто образуется большая пространственная зона: руки держат то скребок, то зеркало, то просто выдвинуты вперед.
Отражение стиля Праксителя можно видеть в торсе Большой геркуланянки (№ 70). Статую, дошедшую в копии, хранящейся ныне в Дрездене, приписывают позднему мастеру, около 330–310 до н.э.; стиль ее аттический. Тип изображения чрезвычайно привлекательный, с тихой меланхолией – возможно, изображена Деметра, мать Коры-Персефоны, похищенной царем мертвых Аидом. Характерен жест рук, держащих края гиматия так, что он пересекает фигуру, словно ограждая ее от общения со зрителем.
К лисипповскому кругу близок Зевс из Додоны (№ 68) – бронзовая статуэтка, найденная в знаменитом святилище с оракулом, прорицавшим по шелесту священного древа и воркованию голубиц. Она отражает монументальный замысел и по качеству очень тонкой, мастерской работы представляет собой настоящий шедевр. Предполагалось, что памятник передает некий известный оригинал, также пелопоннесского стиля, но предвосхищавшего лисипповский – возможно, то была работа выдающегося коринфского ваятеля Эвфранора.
Женские статуи поздней классики дошли в основном в копиях, но их можно представить по обаятельным фигуркам беотийских «танагр» (№ 71.1, 2) – терракотовых статуэток, исполнявшихся в IV–III вв. до н.э. Они сделаны в многочисленных формах, работа тонкая, деликатная, с деликатной же подцветкой. Большинство ранних «танагр» – фигурки женщин в задумчивых позах, богато одетых, в изящных туфельках, с красивыми прическами, иногда в шляпках или с зонтиками и веерами. Их дарили умершим в знак спасения, поскольку «танагры» – вариант все той же богини-матери, благодаря которой возрождается жизнь. Вариантов несколько: есть и матроны с детьми, но чаще это девы, иногда две подруги, порой и неистово пляшущие танцовщицы или настоящие менады в экстазе. Позже, в III в., появляются юноши и мальчики и разные групповые варианты. Диапазон широк; доминируют тихие, замкнутые, меланхолические фигурки, близкие образам Праксителя, с их уходом от шумного города в свой тихий мирок.
В 323 до н.э. Греция была побеждена Александром Македонским, что означало конец ее независимой истории. В это время прекращает существование один из самых замечательных жанров аттической скульптуры – мемориальные стелы. В течение IV в. до н.э. они неуклонно росли в размерах, превращаясь в громадные эдикулы наподобие маленьких храмов, в которых являлись не только умершие с супругами, но уже целые семьи. Они собирают всех «чад и домочадцев», становясь воплощением семейной любви, где память и душевные связи соединяют людей узами, превосходящими по прочности кровь. Самые поздние стелы, до 4 м высотой, очевидно, включали только имена и венчались громадными акротериями. Таков акротерий стелы из Фанагории (№ 69) – лучший из ныне известных памятников этого рода. Виртуозная работа резца создает в мраморе невероятно воздушный, ажурный образ бессмертного древа жизни.
Л.И. Акимова
________________
1 Колпинский, 1977. Ил. 208.
2 Quint. Inst. or. XII. 10. 9.
3 См. вавилонскую «Поэму об Ирре», табл. I.
4 Burkert, 1997, S. 239f.
5 Riezler, 1914.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |


































